Маршал Жуков — мой отец (Часть 5)
Особым событием в годы опалы отца можно считать празднование в мае 1965 года двадцатилетия Победы в Великой Отечественной войне. Его тогда впервые после долгой изоляции пригласили в Кремль. Помню, как рад был отец! В домашнем архиве сохранился номер журнала «Пари Матч», в котором была опубликована большая цветная фотография его с мамой, приехавших в Кремль. В журнале была также и небольшая заметка о том, что москвичи кричали: «Слава Жукову!», когда Брежнев упомянул его имя в своем докладе. Мама рассказывала, какими бурными и продолжительными были аплодисменты огромного зала и как неловко чувствовали себя Брежнев и Суслов. Люди, аплодирующие отцу, как бы перечеркивали все решения октябрьского пленума ЦК КПСС 1957 года, все те гонения и унижения, которые он пережил. Но эта овация означала и новые неприятности.
 В домашнем архиве я нашла еще одно письмо, которое в 1967 году написал отцу директор школы из города Чебаркуль Челябинской области. Оно мне показалось интересным:
В домашнем архиве я нашла еще одно письмо, которое в 1967 году написал отцу директор школы из города Чебаркуль Челябинской области. Оно мне показалось интересным:
«Дорогой Георгий Константинович!
С волнением небывалым я пишу Вам эти строки. Примите же их как простой, но сердечный человеческий документ. Я — потомственный учитель, пошел по стезе деда и отца. И фамилия моя сугубо прозаическая, ничего не говорящая — Иванов, а звать Николай Григорьевич.
Если судьбе не суждено будет сделать так, чтобы я увидел Вас в жизни, пусть Вы хоть в письме узнаете, что имя Жукова, дела Жукова живут и будут жить в сердцах наших людей. Верьте мне, я многое пережил в свои 56 лет, но слезы не были спутником всего, мною переживаемого, а когда я увидел Вас на экране телевизора в президиуме торжественного заседания, посвященного 20-летию Победы, и услышал возглас из зала: «Жукову слава!», сопровождаемый бурной овацией, я заплакал. Чувство огромной теплоты и человечьей радости заполнило сердце — я понял, что наш Суворов снова возвратился в строй!»
 В те годы отец как-то по-особому стал ценить верных, проверенных друзей, был благодарен тем, которые его не предали, не отвернулись в трудную минуту (может быть, зная, насколько трудно это было порой). А ведь многие отворачивались, переходили на другую сторону улицы. Порой случалось, что те, которые когда-то его усиленно хвалили, впоследствии стали в ряды его хулителей.
В те годы отец как-то по-особому стал ценить верных, проверенных друзей, был благодарен тем, которые его не предали, не отвернулись в трудную минуту (может быть, зная, насколько трудно это было порой). А ведь многие отворачивались, переходили на другую сторону улицы. Порой случалось, что те, которые когда-то его усиленно хвалили, впоследствии стали в ряды его хулителей.
Среди немногих друзей и соратников, кто остался преданным отцу в те годы, был и его бывший заместитель по тылу на 1-м Белорусском фронте генерал-лейтенант Николай Александрович Антипенко. Он бесстрашно писал в защиту отца во все инстанции, просто проявлял дружеское участие, заботу (то поросят привезет со своей родины, из Запорожья, то еще что-нибудь в этом роде). В декабре 1966 года он пригласил Жукова к себе на юбилей, несмотря на то, что это было опасно, и не всякий мог решиться на такой смелый шаг. Были приглашены соратники по 1-му Белорусскому фронту — Казаков, Орел, Баграмян, Стученко. Некоторые побоялись прийти, узнав, что будет Жуков. Один из гостей, бывавший обычно тамадой, на этот раз отказался вести вечер, начал кашлять и жаловаться на больное горло.
У зятя юбиляра была новая кинокамера, и он снимал это торжество. Некоторые, по его словам, отворачивались, боялись быть скомпрометированными. Отец же был рад встрече с соратниками после стольких лет изоляции. Велась оживленная беседа, вспоминали войну, подвиг народа. Георгий Константинович был «душой общества». Потом пели военные песни, и отец даже сплясал русскую (это в 70 лет!). Жаль, что пленка с этими ценными кадрами оказалась потом по неизвестным причинам засвеченной.
* * *
Все, о чем я рассказываю, лишь штрихи к портрету отца. Мне кажется, что этот портрет станет объемнее, если сказать несколько слов о том, каков он был в повседневной жизни. Но сначала несколько слов о нашем доме.
Дом — это не только стены, комнаты, обстановка, Это непередаваемая словами особая атмосфера тепла, любви и заботы друг о друге, добрых традиций. Это место, где ничего не страшно, когда рядом с тобой люди, берущие на свои плечи тяготы друг друга.
Я люблю дом, в котором прошло мое детство, называю его домом в Рублево, хотя в литературе он больше известен как дача в Сосновке. Это была огромная, двухэтажная дача, подаренная, вернее, предоставленная отцу в пожизненное распоряжение Сталиным после победы под Москвой в начале 1942 года. Находилась она в 20 минутах езды на машине от центра Москвы на запад, недалеко от кольцевой автодороги, Я часто вспоминаю этот дом и даже вижу его во сне со всей обстановкой, будто там ничего не изменилось с тех пор, как после смерти отца нас очень поспешно выселили оттуда.
 Это был огромный, уютный, красивый, светлый дом. Хотя и был он государственным, с инвентаризационными номерками на всех предметах: на мебели, люстрах, шторах, посуде, скатертях, постельном белье и т. д. Дача имела интересную планировку, несколько главных комнат выходили огромными окнами, которые почему-то назывались французскими, на площадку, вымощенную белыми каменными плитами и обрамленную цветниками. Площадка эта по двум параллельным спускам вела в парк, к аллее с большим белым фонтаном. В нем обычно было мало воды, отец выпускал туда живцов для своей рыбалки. На них он ловил крупную рыбу — судака, щуку. Фонтан включался очень редко, так как требовались дополнительные затраты электроэнергии (а также воды), и хотя дача была на полном государственном обеспечении, отец не любил расходовать электричество впустую и всех домашних приучал к бережливости.
Это был огромный, уютный, красивый, светлый дом. Хотя и был он государственным, с инвентаризационными номерками на всех предметах: на мебели, люстрах, шторах, посуде, скатертях, постельном белье и т. д. Дача имела интересную планировку, несколько главных комнат выходили огромными окнами, которые почему-то назывались французскими, на площадку, вымощенную белыми каменными плитами и обрамленную цветниками. Площадка эта по двум параллельным спускам вела в парк, к аллее с большим белым фонтаном. В нем обычно было мало воды, отец выпускал туда живцов для своей рыбалки. На них он ловил крупную рыбу — судака, щуку. Фонтан включался очень редко, так как требовались дополнительные затраты электроэнергии (а также воды), и хотя дача была на полном государственном обеспечении, отец не любил расходовать электричество впустую и всех домашних приучал к бережливости.
Вокруг дачи был огромный лес, дальше — яблоневый сад. Помню до сих пор ощущение неимоверной полноты жизни, когда в мае мы всей семьей прогуливались среди цветущих яблонь, груш, слив и вишен, шли по траве, сплошь усыпанной, как снегом, белыми лепестками. Среди сада находился огород, где выращивалась морковь, свекла, редис, огурцы, помидоры, кабачки, патиссоны, клубника и многое другое. Лес и сад были огорожены сплошным зеленым забором. В «доопальные времена» над забором была колючая проволока, в воротах сидела охрана, была также и сигнализация, остатки которой в виде оборванной проволоки мы, дети, находили в саду. При мне охраны не было и в помине. Ворота и калитку все приезжающие открывали сами.
Отец любил гостей, хотя они (уже на моей памяти, когда отец был в опале) приезжали в наш дом нечасто. А радовался он их приезду потому, что приезжали в основном люди искренние и верные.
Настоящий русский дом хлебосолен, гостеприимен, радушен. «Не красна изба углами, а красна пирогами» — такова народная пословица. Пироги в нашем доме пеклись часто. Особенно к приезду гостей. Пироги с капустой, рыбой, курицей, огромные — размером с целый противень, с тонким тестом и толстой начинкой. Гости всегда их нахваливали и не только ели, но и увозили с собой, чтобы угостить домашних. Отец принимал живое участие в подготовке к встрече гостей, расставлял бокалы, приборы, думал, кого где посадить, раскладывая именные записочки.
На столе были неизменные маринованные белые грибы, собранные летом своими руками, моченая брусника, выросшая в лесу рядом с дачей, антоновские яблоки из своего сада, квашеная капуста и соленые огурцы со своего огорода. Отец любил картошку, которую привозили с его родины, из Калужской области. В обычные дни, когда не было гостей, питались просто. «Щи да каша — пища наша», — говорил отец.
Иногда, чтобы попить чаю на свежем воздухе, в тени деревьев, ставили самовар, раздувая старым сапогом угли. Вообще чай из самовара — одно из любимых воспоминаний моего детства.
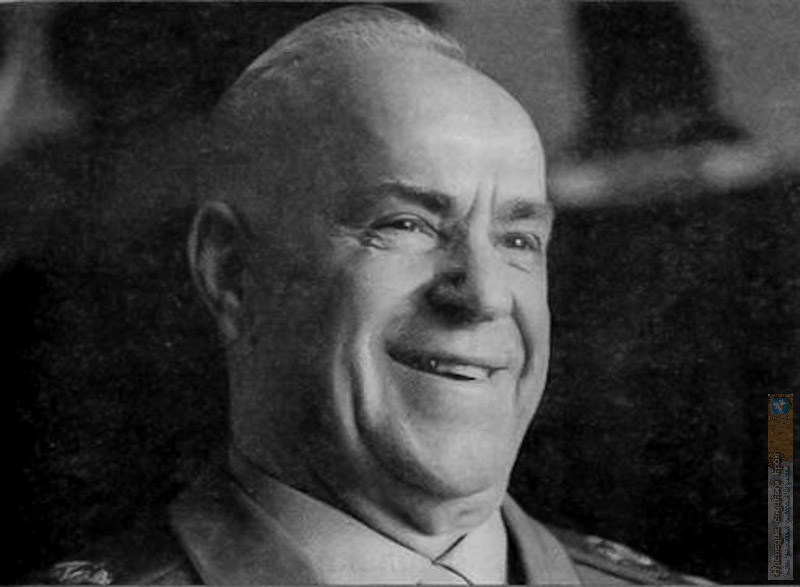 Улыбки всегда были в нашем доме. Отец любил шутить, веселить гостей. В то же время он был достаточно равнодушен к вину, даже по большим праздникам, хотя угостить он любил, и на столе всегда были хорошие вина и коньяки. Во время войны, если что и позволял себе выпить, так это стопку настойки с перцем и то ради лечения от простуды. В хорошей компании мог выпить рюмку-другую. Но считал недопустимым употребление спиртного в несовершеннолетнем возрасте. Пьяных он буквально не терпел, как и Александр Васильевич Суворов, разве только не поливал их, как тот, холодной водой.
Улыбки всегда были в нашем доме. Отец любил шутить, веселить гостей. В то же время он был достаточно равнодушен к вину, даже по большим праздникам, хотя угостить он любил, и на столе всегда были хорошие вина и коньяки. Во время войны, если что и позволял себе выпить, так это стопку настойки с перцем и то ради лечения от простуды. В хорошей компании мог выпить рюмку-другую. Но считал недопустимым употребление спиртного в несовершеннолетнем возрасте. Пьяных он буквально не терпел, как и Александр Васильевич Суворов, разве только не поливал их, как тот, холодной водой.
Отец с детства очень любил природу. Лес и вода, по его признанию, успокаивали его. Он любил ходить в лес за грибами. Помню поездки за грибами всей семьей, отец умел собирать грибы, радовался каждому белому. Меня в детстве поражала его способность ориентироваться в лесу, казавшемся дремучим. Чтобы сделать приятное мне или маме, нанижет, бывало, на травинку землянику или соберет букетик полевых цветов. К цветам у него было особое отношение. Он выращивал розы разных сортов рядом с дачей. Это были его любимые цветы. Ими он щедро одаривал всех приезжавших. Весной и летом во многих комнатах дачи стояли букеты с розами, сиренью, просто с лесными и полевыми цветами, а также с ландышами, которых вокруг в лесу было огромное количество, и отец всем советовал рвать их без листьев (он вообще не терпел варварского отношения к природе).
* * *
Мы часто устраивали дома вечера классической музыки, когда всей семьей собирались вокруг огромной «бандуры», как мы в шутку называли старый проигрыватель с крышкой. Особенно любили и подолгу слушали Чайковского («Первый концерт», «Времена года», музыку из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», арии из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и др.). «Первый концерт» повторяли снова и снова, и наш огромный дом наполнялся удивительно жизнеутверждающими звуками.
В 1950-е годы судьба свела отца с Михаилом Дормидонтовичем Михайловым, хотя не исключаю, что они могли быть знакомы и раньше. В Екатеринбурге (тогдашнем Свердловске) произошла встреча его, тогда командующего Уральским военным округом, со знаменитым басом, который пел в то время в Большом театре (люди старшего поколения помнят, как в послевоенные годы он пел партию Ивана Сусанина). Будучи человеком православным и глубоко верующим, он еще до революции стал протодиаконом. И, несмотря ни на что, сана с себя не снял. Продолжал петь в оставшихся после погромов московских храмах. Отец хотел побывать на его выступлении, но ему не удалось, и он очень сожалел об этом. А позднее решил пригласить знаменитого певца домой. Встреча произвела большое впечатление на обоих. Как я понимаю, у них было много общего. Оба родились почти в одно время, были родом из деревни, в детстве пели в церковном хоре. До поздней ночи из окон особняка лился могучий бас Михайлова. Рассказывают, что в тот вечер Жуков вместе с гостем пели дуэтом «Есть на Волге утес», причем маршал аккомпанировал на баяне.
У отца были хорошие голос и слух, он пел и подыгрывал себе на баяне, выучившись во время войны у солдата Ивана Ивановича Усанова, служившего в его охране. Причем, как вспоминал учитель, ученик его прилежно слушался. Генерал армии С.М. Штеменко вспоминал, как во время войны случайно ночью перед боем услышал, как Жуков играл на баяне: «Я вернулся к себе и только собирался прилечь, как услышал приглушенные звуки баяна. Кто-то мягко выводил грустную, всем тогда знакомую мелодию. Я выглянул в дверь и увидел Георгия Константиновича. Он медленно растягивал мехи баяна, присев на порог землянки. За первой мелодией последовали вторая, третья, такие же сердечные. Все это были добрые наши фронтовые песни («Темная ночь», «Дороги», «Соловьи» и другие. — М. Ж.). Мастерства у музыканта не хватало, но играл он с подкупающим усердием. Я долго стоял у двери, не шелохнувшись…»
Отец любил песни «Ах вы сени, мои сени», «Когда б имел златые горы», «Славное море, священный Байкал», «Позарастали стежки-дорожки» и другие русские народные песни с их, как говорил отец, «широким раздольем, задумчивой напевностью и задушевностью, что за сердце берет». «Я деревенский человек, и для меня, — подчеркивал он, — русская народная песня всегда олицетворяла Отечество и была воспоминанием о родной деревне и родительском доме в Стрелковке».
 Помню, как он пел с гостями на своем семидесятилетии «Степь да степь кругом». А мне, девочке, представлялось, как же холодно и страшно было ямщику умирать в степи, как будто видела его, снимающего перед смертью с пальца обручальное кольцо. При этом я невольно бросала взгляд на обручальное кольцо отца, которое он никогда не снимал.
Помню, как он пел с гостями на своем семидесятилетии «Степь да степь кругом». А мне, девочке, представлялось, как же холодно и страшно было ямщику умирать в степи, как будто видела его, снимающего перед смертью с пальца обручальное кольцо. При этом я невольно бросала взгляд на обручальное кольцо отца, которое он никогда не снимал.
Песня была необходима для души папы в определенные моменты жизни. Она была как молитва.
Как-то прочитала рассказ Ивана Шмелева о русской песне. В нем есть такие строки: «Впервые тогда … почувствовал я неведомый мне дотоле мир — тоски и раздолья, таящийся в русской песне, неведомую в глубине своей душу родного мне народа, нежную и суровую … Приоткрылся мне новый мир — и ласковой, и суровой природы русской, в котором душа тоскует и ждет чего-то. … Тогда-то, на ранней моей поре, — впервые, быть может, почувствовал я силу и красоту народного слова русского. … Просто пришло оно и ласково легло в душу».
Говоря о русской песне, нельзя не вспомнить добрым словом знаменитую певицу Лидию Андреевну Русланову, с которой дружил отец. Он любил ее пение. «Эта русская баба душой поет», — как-то сказал о ней Шаляпин, услышав ее пение по радио. В 1945 году, когда шли последние бои за Берлин, она, певшая всю войну перед нашими войсками и летом, и зимой, в 30-градусный мороз, первая проникла к поверженному рейхстагу и дала концерт перед солдатами.
После подписания немцами капитуляции состоялся праздничный ужин. Жуков попросил баян, Русланова пела, а он аккомпанировал. Как жаль, что никто не снял на кинопленку этого уникального «дуэта»! «Для маршала совсем неплохо», — сказала певица. Особенно отцу нравились в ее исполнении песни «По диким степям Забайкалья» и «Валенки». Это Русланова первая назвала отца «Георгием Победоносцем». А позже она и ее муж, генерал-лейтенант Крюков, сослуживец отца, тяжко расплатились за дружбу с Жуковым и преданность ему: оба прошли заключение (позже, как только у отца появилась возможность им помочь, он ходатайствовал об их освобождении).
Помню, как отец с удовольствием слушал русские романсы, как он любил Шаляпина, Лемешева (с ним он не раз встречался), в последние годы любил слушать запись Бориса Штоколова, особенно его «Гори, гори, моя звезда». Когда-то, будучи командующим Уральским военным округом, отец был на смотре художественной самодеятельности и заметил талант Штоколова, тогда курсанта летной школы. Он вызвал его к себе во время антракта и сказал: «Таких летчиков у нас много, а тебе надо учиться петь». Борис был рад такой «путевке в жизнь», закончил консерваторию и оправдал возложенные на него надежды.
* * *
У нас дома была большая библиотека, кроме того, отец постоянно выписывал новые, выходившие из печати книги. Мне он постоянно напоминал о необходимости читать классику. Его знания в разных областях можно назвать обширными, причем в таких, в которых, казалось бы, знания были ни к чему.
Отец любил родной язык. Его речь была образной, сочной. Он никогда не был многословен, очень четко формулировал свои мысли, точно подбирал слова. В этом была его удивительная простота, не ума, конечно же, а сердца. От избытка сердца говорят уста (Лк 6, 45). Не та простота, которая, как говорят в народе, хуже воровства. А та, которая исключает всякое лицемерие, позу, двусмысленность, неискренность. Его речь не требовала напряжения ума у собеседника, чтобы найти какой-то скрытый смысл; он никогда не подчеркивал свою эрудицию, чтобы как-то унизить собеседника. С любым человеком он находил нужный язык: с крестьянином или солдатом свой, с академиком — свой, с музыкантом — свой. И уж тем более никогда не слышала я от него слов «гнилых», даже просто каких-то пустых разговоров.
Чтобы иметь представление о том языке, который был ему свойственен, надо обратиться к книге отца, особенно первой главе, которая написана (и это не только мое мнение) очень хорошим слогом.
Маршал авиации И. И. Пстыго пишет об этом: «…хороший, простой и точный русский язык без всяких примесей свидетельствует о высоком образовании и требовательности к себе автора. … Его книга, как и сам автор, проста, строга, последовательна, без смысловых выкрутасов и подражательств. … Фразы коротки и ясны почти по-военному. … В книге вы не найдете пустой или полупустой фразы, чем страдают многие авторы воспоминаний .. каждое предложение несет с.. огромную смысловую нагрузку. Подлежащее, сказуемое, два-три второстепенных члена, слова для смысловой связи и всё. … Это вписывается в заповедь К. Н. Батюшкова: «Живи, как пишешь, пиши, как живешь».
Отец иногда подмечал искажение русской речи. Однажды я сказала: «Пойдемте кушать».
Отец ответил довольно строго: «Нет такого слова в русском языке, надо говорить «есть»[28].
В то же время он употреблял своеобразные, народные обороты речи. У него было неповторимое чувство юмора. Вот некоторые, запомнившиеся мне наиболее яркие выражения.
О разгроме японской армии на р. Халхин-Гол в 1939 году он как-то сказал с юмором, суммируя в одной фразе весь смысл той военной операции: «Японцы подумали, за ухом почесали, вступать им в эту войну или нет».
Это означало, что в годы войны у японского руководства не хватило духу объявить нам войну, так как у них в памяти были свежи уроки, полученные в боях за Халхин-Гол. Тяжело было бы нашей стране вести войну одновременно и на западе, и на востоке.
Делегация из Монголии, поздравляя его с какой-то датой, подарила ему сувенир: монгольских девушку и парня, которые танцуют. Он, улыбаясь, прокомментировал: «Она танцует, а он возле нее кружится, кружок выписывает». (Не иначе, как вспомнил пляски и хороводы в деревне в юные годы — их он очень любил).
О цензорах его книги, которые попортили ему много крови: «А они сидят там теперь, крючкотворством занимаются» (по словарю В. И. Даля, крючок в деле — придирка; крючкотвор — продажный, изворотливый делец; крючкотворствовать — строить крючки, прицепы).
Однажды, кажется, в 1971 году, журналист, беря интервью, спросил отца, что он отдал за последнее время в музеи. Отец ответил: «Две шашки отдал в Исторический музей. Пистолет — в музей Вооруженных Сил. Я не считаю нужным хранить это все под спудом, пусть народ видит».
Употреблял он в речи и известные поговорки: «Поспешишь — людей насмешишь», «Делу время, а потехе — час», «Не рой яму ближнему, сам в нее упадешь», «Земля слухом полнится» и другие, мною уже упомянутые.
Помню, как отец с удовольствием читал мысли и афоризмы Козьмы Пруткова[29]:
«Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!»
«Военные люди защищают Отечество».
«Принимаясь за дело, соберись с духом».
«Бди!»
«Не робей перед врагом: лютейший враг человека — он сам».
«Лучше скажи мало, но хорошо».
«Что нельзя командовать шепотом, это доказано опытом».
Мне хотелось бы еще отметить, что отец всегда ценил время. Как тут не вспомнить суворовское: «…обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем — временем — бережливо и деятельно». «Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня, — говорил мне отец. — Имей в виду, что упущенное время ничем не нагонишь». На одном моем детском рисунке, где я кое-как изобразила море, волны, корабль с парусами, и попросила дать оценку, отец написал: «Пустая трата времени и бумаги». Стараясь наполнить каждую минуту жизни деятельностью, отец в то же время никогда не предавался суете или какой-то никчемной спешке. Ничего этого не было и в помине.
Суворов говорил, что никогда не соблазнялся «приманчивым пением сирен роскошной и беспечной жизни». Отец также в своих потребностях был неприхотлив, умел довольствоваться малым, не любил роскоши и считал, что она имеет растлевающее, изнеживающее влияние на человека, на военного же — в особенности. Конечно, условия жизни соответствовали его званию и положению, их нельзя было назвать слишком скромными, но, во-первых, почти все на даче в Сосновке было «казенным», как мы называли, а во-вторых, сердцем он никогда не прилеплялся к вещам, как и подобало настоящему военному человеку. Все это, по большому счету, было для него, по его же собственному, очень меткому выражению, «барахлом».
Снова и снова, вспоминая, как жил отец, убеждаюсь, насколько глубоко впитал он, как говорят, с молоком матери, евангельские заповеди. В частности вот эту: Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения (Лк 12,15). Когда отцу предоставили 8-комнатную квартиру, он велел разделить ее, оставив только четыре комнаты, заметив при этом, что народ живет в стесненных жилищных условиях, и ему с семьей неудобно жить в таких «хоромах». В отличие от других высокопоставленных военных он не построил личной дачи.
О судьбах Родины больше думал… Тщательно следил за обстановкой в стране. В связи с этим вспоминается такой случай. Однажды, увидев по телевидению, как министр внутренних дел Н.А. Щелоков принимал у себя в кабинете одного только что освободившегося из колонии человека, осужденного за тяжкое преступление, дал ему совет не заигрывать с преступниками, они этого не заслуживают.
Сам же вспоминал, как, командуя Одесским военным округом в послевоенные годы, за одну ночь навел порядок в Одессе, где орудовали воровские шайки, выпущенные по амнистии уголовники. Одесситы вечером крепко запирали двери и боялись выходить на улицу. Днем родители водили детей в школу и из школы. Милиция не справлялась с тяжелой обстановкой. Первый секретарь Одесского обкома партии обратился к отцу за помощью. Была разработана тайная операция: строевым офицерам-фронтовикам выдали модные трофейные плащи, шляпы и револьверы «Вальтер». Они появлялись на темных, пустынных улицах и привлекали внимание преступников, ищущих легкой наживы. Вдвоем, втроем бандиты нападали на «одинокого прохожего» и попадали куда следует. Одесситы долго потом называли эту операцию «блицкригом».
Помню, как отец сказал Щелокову, приехавшему поздравить его с юбилеем, что при воспитании личного состава необходимо помнить в первую очередь о душе человека: «Каким бы ни был знающим специалист, а если он без души работает, ничего не получится!»
 Следил он и за международным положением. Интересно читать его записи более чем 30-летней давности. Вот одна из них, сделанная в блокноте, по всей видимости, в начале 1970-х: «Слова и дела. Систематическое проведение маневров сухопутных, воздушных и военно-морских сил НАТО идет в явное противоречие с заявлениями правительств США, Англии и др. Не говоря уже о явных делах против мира во всем мире: а) Индокитай, б) Израиль — Ближний Восток, в) строительство новых военных баз НАТО, г) непонятная политика и закулисные дела с Китаем…» Теперь-то уж особенно видно, как слова расходятся с делами. За этими скупыми записями, конечно же, стоят глубокие раздумья и обеспокоенность много знающего, мудрого и смотрящего далеко вперед человека.
Следил он и за международным положением. Интересно читать его записи более чем 30-летней давности. Вот одна из них, сделанная в блокноте, по всей видимости, в начале 1970-х: «Слова и дела. Систематическое проведение маневров сухопутных, воздушных и военно-морских сил НАТО идет в явное противоречие с заявлениями правительств США, Англии и др. Не говоря уже о явных делах против мира во всем мире: а) Индокитай, б) Израиль — Ближний Восток, в) строительство новых военных баз НАТО, г) непонятная политика и закулисные дела с Китаем…» Теперь-то уж особенно видно, как слова расходятся с делами. За этими скупыми записями, конечно же, стоят глубокие раздумья и обеспокоенность много знающего, мудрого и смотрящего далеко вперед человека.
Еще в 1945 году на военно-научной конференции по изучению опыта войны отец ни себе, ни участникам конференции не позволил обольщаться лаврами победителей. В своем выступлении он, прекрасно разбиравшийся в международной обстановке, говорил, что опыт, завоеванный кровью народа, должен стать основой высокой боеготовности нашей армии, основой побед в будущем, если кто-то подумает вновь испытать силу нашего оружия.
Отец говорил: «Наш опыт — это золотые зерна, которые мы должны передать молодым». Он завещал молодым людям: «Охотники до нашей земли и наших завоеваний по-прежнему есть, и думаю, еще долго не переведутся. И потому в любой момент надо быть готовым к суровому часу. Учитесь, знайте, что наши враги не сидят сложа руки». На его письменном столе лежала фотография проекта памятника Александру Невскому, на мече которого были начертаны слова, особо запавшие мне тогда в душу: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».
* * *
Отец делил людей на искренних и неискренних, которые «себе на уме». Сам же никогда не кривил душой, ему всегда было присуще обостренное чувство справедливости. Будучи в Свердловске командующим Уральским военным округом, он побывал в ипатьевском доме. Вот как вспоминает об этом моя сестра Элла: «Помню и печально знаменитый ипатьевский дом, куда нас провели по особому разрешению. Тема расстрела царской семьи в те годы была под строжайшим запретом, и я впервые узнала об этой трагедии. В доме при входе была устроена небольшая экспозиция с копиями каких-то документов, на стенах висели красные лозунги и портреты вождей, а внизу — страшный подвал, куда мне не захотелось спускаться. Атмосфера в доме была гнетущей. С отцом на эту тему я заговаривать не стала». О том, что на самом деле творилось в душе отца, можно понять по эпизоду, происшедшему позднее. О нем мне рассказали во время моей поездки на Урал старожилы.
Однажды на каком-то торжественном собрании к Жукову протиснулся подвыпивший старый большевик Ермаков. Представляясь, объявил, что он тот самый Ермаков, который участвовал в расстреле царской семьи[30], и протянул руку для пожатия.
Он ожидал привычной реакции — удивления, расспросов, восторга. Но маршал повел себя по-другому, чего Ермаков никак не ожидал.
Он сказал, по-жуковски твердо выговаривая слова: «Палачам руки не подаю».
Он никогда не угодничал, твердо отстаивая истину. Оттого и незыблем был в народе его авторитет. Потому и боялись «наверху» этой всенародной любви к маршалу Победы. Да только не могли ее заглушить.
29 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное проведение операции «Багратион» по освобождению Белоруссии Г. К. Жукову было вторично присвоено высокое звание Героя Советского Союза. По существовавшему тогда положению всем обладателям двух «Золотых Звезд» на их родине устанавливали бронзовый бюст. Пока шла война, заниматься этим было некогда. Однако в первые же победные дни сорок пятого года талантливый скульптор Евгений Вучетич приехал в Берлин и уговорил отца выделить немного времени и попозировать ему. Он создал прекрасное скульптурное изображение Жукова, копия которого хранится в нашем доме. На металлической пластине, прикрепленной к гранитной подставке бюста, выгравировано: «Тебе не смог в венок победный лавровой ветви я вплести, но постараюсь до столетий твой светлый образ донести. Славному русскому полководцу XX века, маршалу Г. К. Жукову в память о наших коротких встречах. От автора. Берлин, ноябрь 1945 г.».
 Отлитый в бронзе бюст Жукова был привезен в районный центр Угодский Завод, который теперь переименован в город Жуков. Но в то время уже начались гонения на маршала, и вопрос с бюстом как-то заглох.
Отлитый в бронзе бюст Жукова был привезен в районный центр Угодский Завод, который теперь переименован в город Жуков. Но в то время уже начались гонения на маршала, и вопрос с бюстом как-то заглох.
В 1953 году, когда отец был назначен заместителем министра обороны СССР, вновь был поднят вопрос об установке бюста на родине маршала. Стали его искать. Старые рабочие крахмального завода показали место, где он валялся, — на одном из складов без крыши, забитом горбылем, в куче голубиного помета. Специалисты быстро привели его в порядок. Под стать бюсту, созданному талантом выдающегося скульптора, соорудили постамент из красного гранита, который был добыт в Норвегии по приказу Гитлера и доставлен в Россию специально для сооружения в Москве… памятника «победы» Германии над Советским Союзом.
Моя сестра Элла вспоминает (я тогда еще не родилась), что отец довольно сдержанно относился к теме увековечения своей памяти. Когда Георгий Константинович получил приглашение прибыть 30 декабря на торжественную церемонию открытия бюста на своей родине, то ехать отказался, сославшись на занятость. Дома же сказал: «Как это я буду присутствовать на открытии собственного бюста? Мне кажется, это будет выглядеть как-то странно и нескромно». Ехать пришлось сестрам. Отец увидел впервые этот бюст спустя десять лет, когда приехал поклониться могиле своего отца, похороненного в Угодском Заводе.
Когда в октябре 1957 года на пленуме ЦК КПСС произошла настоящая расправа над отцом, в Угодско-Заводском районе тоже проходил пленум. После него перестали расчищать снег возле бюста, который стоит в сквере, в самом центре тогдашнего села. Как-то в пятницу бригада плотников, простых, немолодых уже мужиков, «шабашников», как их звали в народе, но настоящих работяг, пришли к бюсту отца, сняли шапки и начали с постамента шапками сметать снег. А бюст стоит как раз напротив двухэтажного здания районного комитета партии, там кто-то заметил, позвали секретаря, завотделами, которые долго стояли у окон и смотрели, как мужички все расчистили, взяли котомочки и разошлись. Без слов. Говорят, что на второй день негласно была дана команда — стали расчищать снег у бюста и с тех пор не прекращали. Интересно, что когда отец приезжал в Угодский Завод 14 июня 1964 года, он беседовал с односельчанами, и они поведали ему, что после октябрьского пленума ЦК 1957 года к ним приезжали из Москвы «ходатаи», беседовали со старожилами села, интересовались их настроениями и осторожно намекали: а нужен ли там бюст Жукова? Местные жители отвечали, что Жукова хорошо знают. Он еще мальчишкой рос у них на глазах, стал военным, в тяжелую годину руководил войсками, которые разбили немцев под Москвой, говорили они, освобождал родную землю, привел победные войска в Берлин. Так что бюст заслуженно ему установлен. А что там у вас делается в Москве — разбирайтесь сами! Так и уехали ни с чем непрошеные гости.
В 1966 году отцу написал из Угодского Завода письмо замечательный человек, историк-краевед, бывший учитель, Александр Дмитриевич Терешин, начавший собирать материалы о его жизни, фотографии и личные вещи Жукова, подаренные им для народного краеведческого музея[31]. Для начала отец послал тогда землякам две фотографии и выписку из автобиографии. Терешин писал в ответ: «…Как только узнали, что в музее получено Ваше письмо, увеличилась посещаемость. С любовью рассматривает народ Ваши фотографии, организовались в кружки и читали Вашу автобиографию. Пришлось ее просто размножить, ибо ту, что прислали Вы, могут зачитать до дыр…» В 1969 году он пишет отцу и маме, выражая благодарность за присланные в августе 1968 года дары: «Вещи, которые прислали, бережно хранятся в музее. Я наблюдал, как старушки через стекло целуют мундиры Георгия Константиновича. И это не случайно…»
Я помню поездку с отцом на его родину, хотя и было мне тогда всего семь лет. Он очень любил родные места, земляков. Всегда помнил об их нуждах, помогал, чем мог, в восстановлении разрушенного войной хозяйства, построил дом культуры. До мельчайших подробностей помнил отец расположение в родной деревне Стрелковке изб односельчан, колодцев, бани. Вспоминал липовую рощу, которая росла рядом с родительским домом. Правда, фашисты ее вырубили, сожгли и избу[32]. Причем сожгли в первую очередь, узнав, что это дом матери генерала. Отец перед их приходом прислал машину, чтобы вывезти из деревни мать и родную сестру Марию Константиновну с четырьмя детьми.
Заезжали мы в деревню Черная Грязь, в дом Пилихиных, где родилась и выросла бабушка Устинья. Побывав в этом доме, отец прогулялся по окрестностям, вспомнил детство. Побывали мы и на могиле дедушки Константина, умершего в 1921 году.
 Я полюбила с тех пор родные места отца. В Стрелковке и ее окрестностях как-то особенно чувствуешь свои корни. Я приезжала туда еще в школьные годы, — отец хотел, чтобы я поближе познакомилась с его родиной, с его земляками, увидела коровник, свинарник и все то, чего не увидишь, живя в городе. Потом много раз бывала там после смерти родителей. Постаралась привить любовь к родине отца и моему сыну Георгию, родившемуся в 1979 году. Здесь, в нескольких километрах от Стрелковки, в селе Кутепово, в храме Архистратига Божия Михаила он был крещен.
Я полюбила с тех пор родные места отца. В Стрелковке и ее окрестностях как-то особенно чувствуешь свои корни. Я приезжала туда еще в школьные годы, — отец хотел, чтобы я поближе познакомилась с его родиной, с его земляками, увидела коровник, свинарник и все то, чего не увидишь, живя в городе. Потом много раз бывала там после смерти родителей. Постаралась привить любовь к родине отца и моему сыну Георгию, родившемуся в 1979 году. Здесь, в нескольких километрах от Стрелковки, в селе Кутепово, в храме Архистратига Божия Михаила он был крещен.
О кровной связи отца с родными краями, которая не прерывалась никогда, свидетельствует впечатление, которое осталось у него после одной из таких поездок в Угодский Завод и Стрелковку.
— Одни женщины! — рассказывал он, поражаясь, скольких мужчин «выкосила» война. — Бывшие мои приятельницы, с которыми плясал, — старые, одеты бедно, на руках цыпки. Что же, говорю, так плохо живете, как нищие?
— Мы и есть нищие. После войны все еще не обстроились — не избы, а чуланы. Огороды порезали, коров отняли.
— Теперь, слышал, лучше стало: приусадебные участки распахали, скотину выращивают. Я им говорю: возьмите мой дом, пользуйтесь!
— Средств нет, чтобы поднять!
— Я Ворошилову сказал: «Ты пошел бы и рассказал Хрущеву, до чего деревня дошла». А он мне: «Нет, хочу, чтобы меня похоронили на Красной площади». А мне лично никакая слава после смерти не нужна. Я вот попрошу, чтобы меня в Угодском Заводе похоронили, возле отца.
28
Удивительно, но такое же выражение (я прочитала в книге его дочери) употребил как-то и архидиакон Константин Розов.
29
Козьма Прутков — нереальное лицо. Под таким собирательным псевдонимом писали три автора: Алексей Константинович Толстой и братья Жемчужниковы.
30
Этот человек на протяжении многих лет с упоением рассказывал школьникам о своем «подвиге».
31
В 1986 году он получил статус государственного. В 1995 году построен новый большой музей.
32
Отец помог матери построить эту избу в 1930-х годах. Дом его детства развалился от старости.
Читать:
