Об «очарованной» душе и неосуществлённой мечте
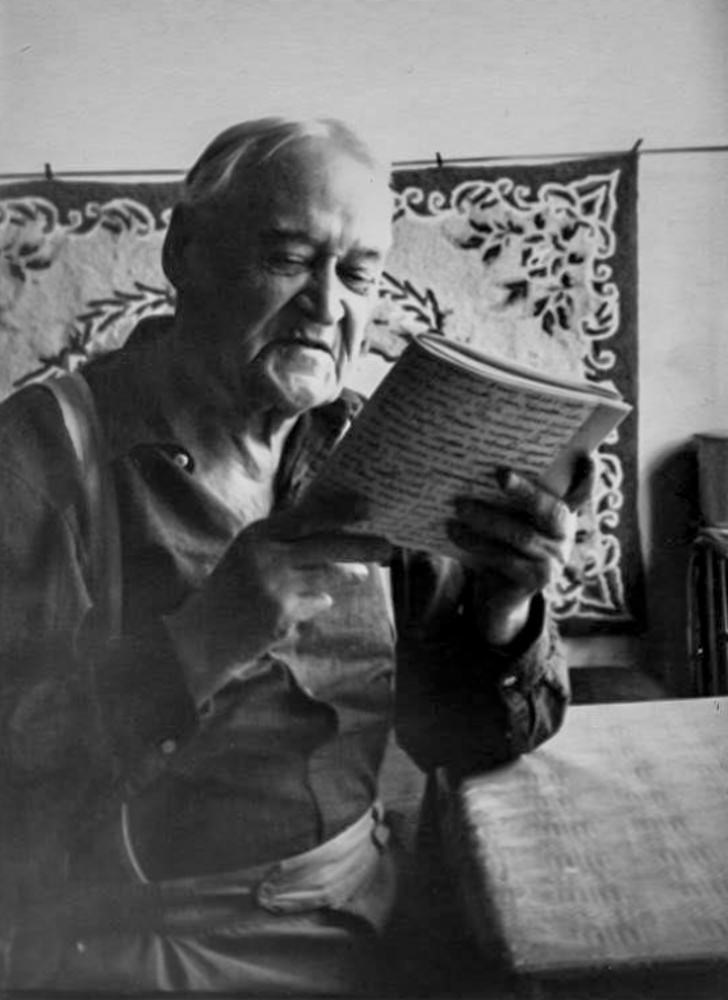
02.01.2019
(наблюдения, размышления, встречи, раздумья, радости и огорчения – всё то, что является результатом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»)
[1965 г.]
КАК СОЗДАВАЛАСЬ «ОЧАРОВАННАЯ» ДУША
(отрывок)
В феврале 1916 г. я получил перевод в Слуцкое духовное училище Минской губернии. Я покидал свою alma mater с грустным чувством. Было грустно оттого, что так неудачно пришлось видеть её в скорбном виде, в положении, лишённом прежнего величия, и оттого, что под влиянием ушедших от юности лет у меня уже не было прежнего романтического отношения к ней и, наконец, приходилось уезжать от неё куда-то далеко с мыслью, что, вероятно, уже не придётся видеть её в том виде, в каком она сохранилась в моей памяти.
Слуцкое духовное училище, как и другие учебные заведения в прифронтовой полосе, было эвакуировано вглубь страны, и занятия в нём не производились. Лишь со средины апреля 1916 г. военное командование разрешило открыть занятия для всех трёх духовных училищ Минской губернии – Минскому, Пинскому и Слуцкому в местечке Паричи Бобруйского уезда. Сюда я и выехал из Перми, а жена оставалась в Перми заканчивать учебный год в Пермской мужской гимназии, где преподавала немецкий язык. Расставание, следовательно, предполагалось на два с небольшим месяца. Это примерно после двух лет нашей семейной жизни.
Уже после г. Борисова, который был на железной дороге между Москвой и Минском, из окна вагона были видны окопы на случай дальнейшего отступления нашей армии. Чем ближе к Минску мы подъезжали, тем больше увеличивались признаки близости фронта, но, не доезжая до Минска, мне пришлось повернуть на Бобруйск, а дальше по Припяти на пароходе добраться до местечка Паричи. В Бобруйске я встретил одного из своих будущих сослуживцев по духовному училищу [1].
В числе наших спутников оказался один болтливый, как видно, из «наших», а по профессии подрядчик по устройству окопов. Эти негоцианты из местных предприимчивых обывателей ворочали миллионами на постройке окопов, рубили леса почём зря. Болтун осведомился, кто мы и по какому поводу едем в Паричи, прежде всего, поставил нас в известность, что слёт в Паричи таких, как мы, т. е. учителей духовных училищ, уже в разгаре и что съехавшиеся оформились уже в «парочки» с учительницами и классными дамами Паричского окружного женского училища ведомства императрицы Марии Фёдоровны, задержавшимися здесь после только что закончившихся краткосрочных занятий. Болтун поведал нам об этом в тоне предупреждения, чтобы мы (моему спутнику было под пятьдесят лет) не вздумали расстраивать «парочки». Он, правда, не предупреждал о возможности «дуэли» в данном случае, но старался внушать словесно. Такова была прелюдия к нашим занятиям в Паричах.
Мы переночевали в какой-то грязной корчме такого типа, который существовал ещё во времена Н.В. Гоголя и описан им в «Тарасе Бульбе». За Припятью тянулась большая пойма, на которой только что закончена была постройка деревянного моста длиной два с лишним километра. От моста пахло ещё древесиной, и по нему движение было запрещено по всей его длине, а разрешались прогулки только на четверть километра. На этой трассе на другой день вечером я и наблюдал «парочки», о которых рассказывал наш болтливый спутник на пароходе. «Парочки» были и из молодёжи, и из седовласых, в штатском одеянии, а одна с персоной духовного звания. По всему было видно, что прогулка по мосту для них была не первой, а уже привычной, традиционной – таков был спокойный вид этих «парочек».
 Я был всецело занят новой обстановкой жизни. Здесь всё было для меня новым: природа, люди, их быт и пр. В первый раз в жизни я увидел здесь громадные деревья белой акации, пышные купы персидской сирени и жасминов. Вблизи местечка была дубовая роща, а по дороге к ней, что проходила мимо имения Набоковой, наследницы по майорату имения, принадлежавшего лицейскому другу А.С. Пушкина И.И. Пущину, в разных местах были кусты волоцких орехов. В имении была роща с липовой аллеей, сохранившаяся, очевидно, от времени, когда здесь жил И.И. Пущин, который отсюда и ездил в Михайловское навестить своего друга.
Я был всецело занят новой обстановкой жизни. Здесь всё было для меня новым: природа, люди, их быт и пр. В первый раз в жизни я увидел здесь громадные деревья белой акации, пышные купы персидской сирени и жасминов. Вблизи местечка была дубовая роща, а по дороге к ней, что проходила мимо имения Набоковой, наследницы по майорату имения, принадлежавшего лицейскому другу А.С. Пушкина И.И. Пущину, в разных местах были кусты волоцких орехов. В имении была роща с липовой аллеей, сохранившаяся, очевидно, от времени, когда здесь жил И.И. Пущин, который отсюда и ездил в Михайловское навестить своего друга.
Училище, в которое мы приехали на занятия, было расположено у самого имения. В посёлке в разных местах были белые акации, и когда они цвели, аромат и прямо опьянял меня. Только здесь я зримо ощутил содержание романса «Белой акации гроздья душистые вновь аромата полны» и той части романса Кашеварова «Тишина», где говорится: «Из-за лип кружевных выплывает луна…»
За усадьбой училища находилась деревянная церковка с площадкой, обрамлённой серебристыми тополями, а за ней море приземистых деревянных строений, в которых обитали потомки Израиля, разные ремесленники, деятели мелкого гешефта, и иногда крупные его мастера. Все эти виды – и природы, и быта людей – воскрешали в моей памяти описания Н.В. Гоголем того края Российской империи, где мне пришлось быть впервые.
Люди, среди которых я оказался – учителя, обслуживающий технический персонал и т. д. были за исключением двух-трёх, украинцы и белорусы. С отдельными представителями из них мне приходилось встречаться в привычной мне среде и во время учения в академии и на работе в школе, но здесь, в своей специфической бытовой обстановке они предстали передо мной в новом виде. Это я скоро заметил, например, на том, что они пели преимущественно украинские песни, и пели так увлечённо, как мне не приходилось ещё слышать. Я был очарован их пением. Из русских песен, которые они пели, впервые я услышал песню «На заре туманной юности» для хора. Я испытал при этом редкое удовольствие. Но мне показалось куда хуже, чем у нас, на Урале, церковное пение мальчиков, а особенно бросался в глаза низкий уровень музыкального образования руководителей хором, который обслуживал нас во время наших учебных занятий.
Я ожидал приезда из Перми моей жены, и честно – у меня не было никакого желания «опариться», если бы к этому и представилась возможность. Я был доволен своим положением анахорета, и, как мне казалось, никому не приходило в голову, конечно, из дочерей Евы вывести меня из этого состояния. Я чувствовал себя защищённым бронёй свежего чувства к своей избраннице и сознанием долга, что нахожусь в «законе».
В средине июня ко мне приехала жена, и я как семьянин вышел из рамок своего анахоретского пребывания. До её приезда я жил в общежитии на общих для всех основаниях, а после приезда мы сняли квартиру в одном доме, хозяева которого эвакуировались вглубь страны. В квартире стоял раскрашенный беккеровский рояль, и я оказался во власти непреодолимого желания петь и петь. Уже прошло три года, как я расстался с пением под аккомпанемент рояля в академии. Был поистине, образно выражаясь, «пост» и петь хотелось с особенной силой [2]. Нужен был аккомпаниатор, и мне прямо посчастливилось найти его. Среди эвакуированных обитателей Паричей оставалась небольшая группа не оформившихся в «парочки» сотрудниц Минского женского окружного имени императрицы Марии училища: начальницы его Краузе и две воспитательницы солидного уже возраста, из которых одна играла на рояле. Я теперь не помню, как произошло наше знакомство, но получилось так, что я часто пел под аккомпанемент рояля, пел увлечённо под влиянием роскошной природы, окружавшей меня. Я чувствовал приток сил и пел в меру проснувшегося желания, стараясь использовать все ресурс своего голоса. Я теперь совсем не помню, как случилось, что в числе моих слушателей оказалась дочь управляющего имением Иосифа Сервачинского – Юличка Сервачинская, о беде, случившейся с которой, мне приходилось поведать в связи с моими «концертами». Дальше мне приходится воспользоваться дневником моего друга, Иосифа Флоровича Диолидовича, чтобы описать «беду» Юлички Сервачинской. Вот что он записал в своём дневнике [3].
Юличка только что кончила Бобруйскую женскую гимназию. Ей было семнадцать лет, и она нигде ещё не работала. Редко можно встретить лицо и вообще вид человека, которые в такой степени лишены были привлекательности, как это было у Юлички. У ней были редкие волосы, пепельного цвета без блеска, воспалённые ресницы, слезящиеся глаза, румяный не в меру жирный, как это бывает у людей туберкулёзных, слабо развитый бюст. При этом природа наградила её повышенной склонностью к романтике, доходящей до экзальтации.
 Я не помню, как, по какому поводу между мной и Юличкой завязалась беседа на литературную тему, помню только, что инициативу в этом случае проявила Юличка. Вероятнее всего это она сделала, осведомившись о том, что я по образованию и филолог, и работал преподавателем литературы в Бугурусланском реальном училище. Она была полька, и наш разговор начат был с польской литературы. Я ещё в юношеские годы увлекался чтением романов Генрика Сенкевича, а особенно его романами «Камо грядеши», и романами Иосифа Крашевского. Я восторженно рассказывал о произведениях этих писателей, а Юличка, очевидно, не желая остаться в долгу передо мной, также говорила мне о произведениях русских писателей. Во время беседы я придерживался тона, каким был самый благочестивый преподаватель литературы в каком-либо женском учебном заведении, раскрывал какую-либо литературную тему, тщательно избегая подогревать повышенную эмоциональность своей ученицы, памятуя, что мне под тридцать лет, а ей, моей слушательнице, семнадцать лет. Мне казалось, да так и на самом деле было, что Юличка очень хорошо поняла тон моих рассказов, что я учитель, а она ученица – не больше. Увы – случилось так, что она перешагнула через эту грань, сделав сильный крен в сторону эмоций, чего не должно было бы быть. Тут сказалось, очевидно, то, что женщины более склонны руководствоваться чувствами иногда в ущерб здравому смыслу. Юличка присутствовала на одном моём «концерте» и увидала меня в иной, не привычной для неё, форме певца, а не учителя. Я пел романсы. Романс есть романс. Как всякий исполнитель музыкального произведения для пения я подчинён был тексту его и музыкальному оформлению и, не будучи чурбаном, я вносил в исполнение часть своей души, своих переживаний. И вот… когда я пел, то время от времени бросал взор на Юличку и заметил, что с девушкой творится что-то неладное: то на лице её появлялось облачно сомнения и тревоги – признак разочарования, то просветление – разгадка чего-то неясного для неё. Когда мой «концерт» был закончен, и «публика» стала расходиться, Юличка конфиденциально, под сурдинку, заявила мне: «А Вы совсем не тот, кем я Вас считала раньше». И с этого момента, плутовка, всякий раз как наши руки соединялись при встрече или расставании, старалась крепче сжимать мою руку. Я понял, что с Юличкой случилась «беда», что вместо сухого педанта, каким я ей казался раньше, она открыла во мне человека с тонкой эмоциональной натурой. После этого она вела себя по отношению ко мне неосторожно и ставила меня в двусмысленное положение перед женой. Я был шокирован её отношением ко мне, и передо мной стал вопрос, где искать выхода из создавшегося положения. Принять позу Евгений Онегина и сказать: «учитесь властвовать собой» – по-человечески, мне было жаль огорчить её и так обиженную судьбой по части «достоинств» и «совершенств», о чём толковал Онегин Татьяне в роковую минуту встречи с ней в саду. Предстояло скорое расставание с ней ввиду переезда в Слуцк, и, как я думал, тогда само собой разрешится запутанное положение с отношением ко мне Юлички. Увы! Юличка пошла ещё дальше в своём отношении ко мне, в привязанности ко мне: она стала уговаривать сообщить ей из Слуцка мой адрес с явной целью поддержать свои отношения ко мне письменно. Мне стоило больших трудов уговорить её не делать этого.
Я не помню, как, по какому поводу между мной и Юличкой завязалась беседа на литературную тему, помню только, что инициативу в этом случае проявила Юличка. Вероятнее всего это она сделала, осведомившись о том, что я по образованию и филолог, и работал преподавателем литературы в Бугурусланском реальном училище. Она была полька, и наш разговор начат был с польской литературы. Я ещё в юношеские годы увлекался чтением романов Генрика Сенкевича, а особенно его романами «Камо грядеши», и романами Иосифа Крашевского. Я восторженно рассказывал о произведениях этих писателей, а Юличка, очевидно, не желая остаться в долгу передо мной, также говорила мне о произведениях русских писателей. Во время беседы я придерживался тона, каким был самый благочестивый преподаватель литературы в каком-либо женском учебном заведении, раскрывал какую-либо литературную тему, тщательно избегая подогревать повышенную эмоциональность своей ученицы, памятуя, что мне под тридцать лет, а ей, моей слушательнице, семнадцать лет. Мне казалось, да так и на самом деле было, что Юличка очень хорошо поняла тон моих рассказов, что я учитель, а она ученица – не больше. Увы – случилось так, что она перешагнула через эту грань, сделав сильный крен в сторону эмоций, чего не должно было бы быть. Тут сказалось, очевидно, то, что женщины более склонны руководствоваться чувствами иногда в ущерб здравому смыслу. Юличка присутствовала на одном моём «концерте» и увидала меня в иной, не привычной для неё, форме певца, а не учителя. Я пел романсы. Романс есть романс. Как всякий исполнитель музыкального произведения для пения я подчинён был тексту его и музыкальному оформлению и, не будучи чурбаном, я вносил в исполнение часть своей души, своих переживаний. И вот… когда я пел, то время от времени бросал взор на Юличку и заметил, что с девушкой творится что-то неладное: то на лице её появлялось облачно сомнения и тревоги – признак разочарования, то просветление – разгадка чего-то неясного для неё. Когда мой «концерт» был закончен, и «публика» стала расходиться, Юличка конфиденциально, под сурдинку, заявила мне: «А Вы совсем не тот, кем я Вас считала раньше». И с этого момента, плутовка, всякий раз как наши руки соединялись при встрече или расставании, старалась крепче сжимать мою руку. Я понял, что с Юличкой случилась «беда», что вместо сухого педанта, каким я ей казался раньше, она открыла во мне человека с тонкой эмоциональной натурой. После этого она вела себя по отношению ко мне неосторожно и ставила меня в двусмысленное положение перед женой. Я был шокирован её отношением ко мне, и передо мной стал вопрос, где искать выхода из создавшегося положения. Принять позу Евгений Онегина и сказать: «учитесь властвовать собой» – по-человечески, мне было жаль огорчить её и так обиженную судьбой по части «достоинств» и «совершенств», о чём толковал Онегин Татьяне в роковую минуту встречи с ней в саду. Предстояло скорое расставание с ней ввиду переезда в Слуцк, и, как я думал, тогда само собой разрешится запутанное положение с отношением ко мне Юлички. Увы! Юличка пошла ещё дальше в своём отношении ко мне, в привязанности ко мне: она стала уговаривать сообщить ей из Слуцка мой адрес с явной целью поддержать свои отношения ко мне письменно. Мне стоило больших трудов уговорить её не делать этого.
Настал день нашего отъезда из Паричей в Слуцк. Мы стояли на горке у пристани в ожидании посадки на пароход. Нас провожала Юличка. Наконец мы перешли на пароход и стояли на трапе и смотрели на Юличку, стоящую на горке. Тяжёлая минута расставания! Пароход тронулся, из трубы его вышел густой дым и скрыл от нас Юличку. Когда же он рассеялся, то было видно, что часть провожавших уже разошлась, но Юличка всё стояла на горке и махала белым платочком. Пароход удалялся и удалялся, и фигура Юлички становилась меньше и меньше, но можно было ещё различать, что она махала платочком. Наконец, пароход повернул влево за лесок, и фигура Юлички скрылась с наших глаз.
По-человечески, мне жаль было Юличку, но у меня навсегда осталось доброе чувство к ней и желание ей счастья в жизни. Вместе с этим в моём мозгу «гвоздила» мысль: зачем это было, и где причина «беды», случившейся с Юличкой. Впервые я задумался над тем, что я пел. Я вспомнил, что в числе романсов, которые я пел в тот роковой для Юлички вечер, был, например, романс Денца «Я не любим тобой». Вот его содержание:
«Если любовь в душе твоей зажглася,
Лучом участья жизнь мою согрев,
Песня б моя могуче понеслася –
Тебя пленил бы мой живой напев.
И я тебе твердил бы неустанно
То, чем давно смущаем и томим,
Что лишь тобой живу, мой друг прелестный,
Что божеством ты сделалась моим.
Но горек жребий мой –
Я не любим тобою,
Нет, нет! Знаю: не любим тобой!
Если б могла то чувство разделяя,
Мученьям всем ты положить конец,
Я бы сумел, о, верь мне, дорогая,
Всю жизнь тебя лелеять и хранить!
И суету вседневной жалкой прозы
Прочь отгоня, открыл бы светлый путь
Всюду на нём я рассеял бы розы
И стал бы мил когда-нибудь.
Но горек жребий мой…»
…
Не значило ли это зажечь спичку у склада с горючим! Особенно если слушателем окажется неопытная девушка вроде Юлички, не сумевшей отделить личность певца о персонажа этого романса. Юличка стала жертвой этого неумения, отождествив меня с персонажем романса.
В августе 1916 г. мы переехали в Слуцк. Город находился в 65 вёрстах от линии фронта, а ближайшей точкой были Барановичи. Из Слуцка военные отправлялись прямо на линию фронта. Город был забит военными. В нём была грязь от частых дождей.
Духовное училище было занято военными, а занятия производились в здании высшего начального училища. Я временно преподавал словесность в 5 и 6 классах женской гимназии. Мне пришлось впервые иметь своими учениками представительниц прекрасного пола. Скоро пришлось ощутить своеобразную обстановку работы в этом типе учебного заведения. Пылкие и экспансивные дочери Израиля, которых в училище было большинство, баловали меня своим вниманием. Бывало, когда я направлялся после уроков домой, у входа в здание меня поджидали двое или трое жгучих брюнеток с просьбой: «Можно Вас проводить?» И я торжественно шествовал домой под «конвоем» их по грязному городу. Один мой знакомый этих «конвоиров» назвал «слётками» прекрасного пола. Также бывало на уроках, когда классная дама дремала, а то и засыпала, вдруг раздавался откуда-то из задних рядов робкий голос: «В. А! Что такое любовь?» Я делал вид, что ничего не слышал, а потом стороной приходилось слышать такой отзыв обо мне: «Что за педант наш учитель словесности? Всё говорит о высоких материях, а о любви ничего».
«Во время немецкой оккупации я преподавал группе учениц гимназии, желавших поступить на высшие медицинские курсы, латинский язык. В этой группе были уже девушки, которых по-латински называли virgo viripotens (невеста). Я преподавал язык в развёрнутом виде с герундием и герундивом и прочими «красотами» его, а мои ученицы иногда изнывали, томились, и вдруг раздавался голос: «В. А! Споёмте «Gaudeamus igitur» [4] Я уступал их желанию.
В гимназии устраивались литературно-вокальные вечера, и на одном из них я, забыв урок прошлого (случай с Юличкой Сервачинской) решил выступить с романсом, причём аккомпаниатором была ученица Таня Щука. Она училась у другого преподавателя. Я узнал, что она была дочь бывшего таможенного чиновника. Я познакомился с ней только во время репетиции. Она была гордой девушкой. При счастливой наружности, она отличалась высоким умственным развитием, и в этом отношении она была на голову выше своих соучениц, дочерей Израиля. Последние никак не могли простить ей этого превосходства и, побуждаемые завистью, старались подставлять ей «ножку». Гордая девушка держалась с достоинством. И вот эта девушка оказалась моим аккомпаниатором. Это, вероятно, было уникальным случаем в училище, что ученица была аккомпаниатором учителя, который пел романсы, т. е. о любви. Да и можно ли это делать? А вот случилось. Я пел романс Тальяфико «Когда малиновки звенят». Вот его слова:
«Вставай скорей – не стыдно ль спать,
Пусть солнца луч рассеет грёзы (?).
Давно малиновки звенят,
И для тебя раскрылись розы.
Оставь пленительные грёзы,
Вставай скорей, вставай скорей.
Подумай-ка: если б солнышко вмиг,
Не видавши тебя, разом остановилось,
Иль ручей, вдруг замолкнув, затих,
Или воды его возвратились,
Когда бы весна сказала цветам:
Влюблённые поймут ошибку.
Уйдём от них – совет мой вам,
Поищем у другой улыбки» и т. д.
А на бис я пел серенаду Балакирева [5]:
«Взошёл на небо месяц ясный
Туманы в поле улеглись.
Я жду тебя, мой друг прекрасный,
На зов мой нежный отзовись (дважды)
Сойди сюда на берег тёмный,
Нас скроет сумрак голубой,
И не приметит взор нескромный
Твоей беседы здесь со мной.
О, ты узнаешь, как люблю я,
Для чувств сердечных нету слов –
Их скажет сладость поцелуя,
Объятий жар, огонь речей».
Эти романсы напоминали мне серенады Шуберта. И… «вот что наделали песни твои»… Таня мне: «Я буду аккомпанировать только Вам» … «Я буду просить, чтобы меня перевели в Вашу группу». Я уговорил Таню не делать этого. Я понял, что с Таней тоже случилась «беда». Ах, Таня, Таня! И ты?.
Я долго после этого не встречался с Таней, но однажды встретился с ней. Я был рад, что она от него освободилась.
Через три-четыре года, когда я работал счетоводом в кооперации, я встретился с отцом Тани и спросил у него о ней. Он мне сказал, что Таня прошлой весной умерла от туберкулёза. Узнав эту роковую весть, я шепнул про себя: «Sit tibi, милая Таня, terra levis!» [6].
Во время польской оккупации я работал в коммерческом училище. Здесь был роскошный зал, и под аккомпанемент рояля я распевал в нём свои любимые романсы: «Новгород» Дютша и «Прощание с лесом» Клауэра [7].
Я даже временами нанимал аккомпаниаторов по чьей-либо рекомендации [8]. Первым аккомпаниатором такого рода была полька – панна Габриеля, девушка из тех, кому исполняли романс «Астрам». Я любил этот романс, и когда у меня бывало минорное настроение охотно пел его с приподнятой экспрессией.
«Астры осенние, грусти цветы!
Тихи, задумчивы ваши кусты.
Грустно качаетесь,
Словно склоняетесь
Осенью, поздней порой.
Яркое солнышко вас не пригреет.
Осень ненастная – ваша весна.
Глядя на вас, моё сердце сжимается
Грустью одета душа.
Сад весь осыпался, всё отцвело,
Листья увядшие вдаль унесло,
Лишь одинокие сёстры осенние
Ждут, не дождутся весны».
Я любил астры больше других цветов за их пышность, величавость и за то, что они возбуждали у меня желание мечтать.
Панна Габриеля, как видно, не тяготилась этой работой, хотя я иногда по нескольку раз заставлял её повторять одно и то же в ворчливом тоне. И вот результат наших музыкальных упражнений: девушка стала убеждать меня дать концерт в городе и заверяла меня, что будет несомненный успех. Безнадёжной провинциалке казалось, что она в моём лице нашла настоящего певца! Когда уговоры её стали настойчивее, я решил, что мне пора прекратить с ней мои музыкальные экзерцисы, я перешёл с ними к пани Рачевской.
Вальяжная полька вела себя с польским гонором и только однажды почему-то решила перейти на интимный разговор. Она меня спросила: не знаю ли я одного человека из того общества, в котором я вращался, а попутно осведомилась – не знаю ли я её сестру, польскую учительницу. На первый вопрос я ответил отрицательно, а на второй – уклончиво, что с её сестрой я не знаком, а только мне приходилось видеть её издали. Я больше ничего не сказал пани Рачевской, но задумался об этой, как мне передавали, девушке. Она производила на меня впечатление помятого цветка. У ней было миловидное лицо, но излишне бледное. Во всех её движениях была какая-то сдержанность, скованность, словно её тяготило что-то, что отделяло её от других людей, что у ней была какая-то роковая тайна, которую она скрывала и боялась, как бы другие люли её (тайну) не разгадали.
Эту её тайну удалось узнать позднее как раз от того человека, о котором спрашивала меня пани Рачевская. Это был регент Слуцкого соборного хора Николаевич, скрывавшийся на Украине в связи с событием, связанным с судьбой сестры пани Рачевской. Он вернулся в Слуцк после того, как белополяки покинули этот город, и отбыла из него и эта особа.
Николаевич в тоне похваляющегося Дон-Жуана поведал мне, что он в один из моментов его любовных увлечений «той» девушки похитил её девичество и скрылся на Украину, бросив опозоренную им девушку, любившую его. Такова была «тайна» этой девушки.
Кружок любителей музыки в Слуцке
Я именовал его иначе. Кружок Александра Васильевича Хвалебнова, потому что он группировался около него в его квартире и около его рояля «Беккер». А.В. Хвалебнов был смотрителем духовного училища, в котором я был преподавателем латинского языка. Моё знакомство с ним состоялось в апреле 1916 г. в Паричах, о чём сказано выше. До 1918 г. наши отношения с ним были только служебными, а с этого года они перешли в отношения на музыкальной почве, а служебные прекратились ввиду моего перехода на работу преподавателем литературы в коммерческое училище.
Пословица «Рыбак рыбака видит издалека» вернее всего в других аналогичных случаях относится ко встрече любителей музыки и пения. Так случилось и с нами. Первоначально наш кружок состоял из трёх человек: из А.В. Хвалебнова, меня и нашего аккомпаниатора М.М. Лебедева, причём из нас троих я младшим был – мне было тридцать лет [9]. Первым музыкальным произведением, которое мы разучили и пели неплохо, был дуэт Вильбоа «Моряки» [10]. А потом перешли на романсы, и я разучил из нот А.В. Хвалебнова следующие романсы: Штейнберга [11] «Последнее прости», Шумана «Если бы на небе я солнышком блистал», Шапито «Астрам», неизвестного автора «Весна идёт». Хвалебнову было тогда за пятьдесят лет, и мой голос, естественно, был свежее, но он был зато опытнее меня и кое в чём давал мне советы. Оба мы, однако, были певцами «без школы», самоучки, да и наш аккомпаниатор был под стать нам.
Наш кружок скоро пополнился ещё одним членом. Это был юноша – Игнатий Игнатьевич Криводубский. Я теперь не помню, как состоялось наше знакомство с ним, но он стал часто навещать наш кружок, причём пел романс Кашеварова «Тишина». У него был чудесный тенор с широким диапазоном, и исполнял он этот романс неплохо. Он, очевидно, слышал его исполнение каким-либо настоящим певцом, может быть, Лабинским, которому и посвятил этот романс композитор. Но этот романс в репертуаре Криводубского и был единственным. Потом Хвалебнов помог ему разучить ещё романс Глиэра [12] «Жить, будем жить» и ещё один романс, который я не запомнил [13]. Позднее Криводубский включился в состав соборного хора и выступал в нём солистом.
Интересна судьба этого юноши. В детстве он был взят в известный в те времена хор Славянского, которым после смерти отца руководила его дочь [14]. Когда же его голос «переломился», то он появился в своих палестинах в виде тенора. Юноша мечтал попасть в консерваторию, но дальнейшая судьба его осталась мне известной [15].
С Хвалебновым позднее я встречался в хоре, которым я руководил, о чём речь будет ниже, участие в «кружке Хвалебнова» было одним из этапов моих музыкальных упражнений [16].
Я регент и солист Слуцких хоров
В планы моей жизни не входило сделаться когда-либо регентом хора, да ещё церковного, но обстоятельства жизни поставили меня в такое положение. Началось с того, что у нас составился кружок этого пения при монастыре. В него первоначально входили: трое из семьи вдовы священника Прушинской: Глаша (сопрано), Наташа (контральто), Коля (что-то вроде баса), одна девушка из деревни Бранович – Поля Криводубская (сопрано) и послушники монастыря: Кирилл (бас) и не помню имени (тенор).
Позднее в хор вошли полковник – фамилию его не помню, и сын его кадет (оба басы, причём у кадета голос был скрипучий, как у немазанной телеги). Ещё позднее в хор вошли две институтки Русcакович (сопрано), а в партии контральто временами принимала участие дочь Хвалебнова, тогда ещё девочка, а в последствии известная в Москве деятельница по женскому движению – Ольга Александровна Хвалебнова. Все участники хора были энтузиасты.
Стал вопрос: кому быть регентом? И меня нарекли таковым. Вспоминая своё прошлое, я мог бы сказать: тень Михаила Михайловича Щеглова, моего первого учителя, меня усыновила и нарекла регентом. Конечно же, я начал с того, что стал воспроизводить эту «тень», т. е. копировать те приёмы управления хором, которые были у моего учителя, а в выборе репертуара следовать тому, что мне было раньше знакомо, и что я любил. Кое-что я учил своих хористов петь по нотам, а кое-что разучивали с ними по слуху. Сам я выступал в партии тенора, а временами в хоре принимал участие и Хвалебнов. Большим удобством было то, что все хористы жили около монастыря. Отдалённо жила только Поля Криводубская, но девушка так была увлечена пением, что её не удерживали ни холод, ни снег, ни дождь, ни грязь. Иногда думалось: ну, сегодня Поля не придёт на спевку, смотришь – она заявилась первой, а уж петь – хлебом не корми – вся душа у ней тут.
Теперь я должен покаяться в том, что, подобно своему первому учителю и регенту – М.М. Щеглову, грешил иногда вспыльчивостью и, прямо сказать, грубостью. Не забыть случая с Наташей Прушинской: в ответственный момент «соврала», а я «сбесился» и кинулся неё с кулаками. Девушка убежала с хор и спряталась. Надо петь, а её нет и нет. Посылаю к ней парламентёров для переговоров, а ответ один: «Не пойду – боюсь его». Пришлось самому идти и кланяться «в ножку».
Я вкладывал в своё руководство хором всё своё увлечение пением, как говорится, «всю душу», у меня были известные образы музыкального исполнения, и я старался их осуществить.
В конце концов, я добился того, что хор монастыря был признан соперником соборного хора.
Я всегда дружил с хористами и это было хорошо, но, увы! и здесь не обошлось без того, что именуется словом «страсти-мордасти». Одна из хористок, Елизавета Руссакович, бывшая институтка, а в ту пору учительница немецкого языка в коммерческом училище, оказалась в «беде». «Вот что наделали песни твои»…
Участие в монастырском хоре и руководство им было только началом моей карьеры, а расцвет её относился уже сначала к участию, а потом и к руководству соборным хором.
О хоре в Слуцком соборе нужно сделать несколько предварительных замечаний. Во время войны в этом прифронтовом городе было много военных людей, любителей пения. Были настоящие артисты. Они принимали участие в этом хоре, причём регентом был талантливый руководитель этого коллектива – Михаил Ипполитович Николаевич, тот самый, которого разыскивала моя аккомпаниаторша пани Рачевская (см. выше). Об этом хоре ходили прямо легенды, как о «Золотом веке» его. Но Николаевич скрылся (см. выше), и регентом оказался менее одарённый человек – псаломщик церкви Белоголовик Василий Николаевич. Костяк хора сохранился, но «гости», случайные участники хора со временем ушли на позиции. Временами, однако, вдруг появлялся или какой-либо регент или певец, которые вносили новую струю в исполнительскую деятельность хора. Я теперь не помню, как случилось то, что я оказался в хоре в роли его солиста.
В церковное пение уже с довольно давних времён у нас внедрялось исполнение «соло». Это было следствием западного влияния – из католических и протестантских песнопений. Типичным представителем этого направления в России был композитор Ведель. С начала двадцатого века вошло в моду пение соло под сопровождение хора. Это уже нечто в виде «Ave, Maria» Шуберта с тем отличием, что аккомпанировал хор, а не оркестр. При исполнении богослужений встречались такие моменты, которые удачно подходили к применению этой формы исполнения. Так, существовала молитва «Ныне отпущаеши», относящаяся к легенде о том, что когда Христа принесли в церковь в первый раз, то его встретил там старец Симеон, который будто бы и обратился к нему со словами: «Ныне отпущаеши раба твоего по глаголу Твоему с миром, яко видеша очи мои спасение Твоё. Свет во откровение языков и в славу людей твоих Израиля». Эта картина легенды, очень красочная для внешнего выражения, также вдохновляла на выражение музыкальным языком. Вот почему очень многие композиторы пробовали свои силы на выражение этого сюжета в музыке, а вершиной этого выражения было исполнение «соло» под пение хора. В таком же духе появились и другие композиции, например, на псалом «Благослови, душе моя Господа…» Нельзя отрицать художественной формы такого исполнения, похожего на ораторию. У меня в памяти сохранились эти песнопения, и мне поручено было исполнять их. Заранее я должен оговориться, что меня при этом увлекала художественная форма этих произведений, а не религиозное назначение их. Сама форма моего исполнения напоминала концертное выступление: я пел на авансцене, хор пел по всем правилам светского исполнения – с нажимом на бель-канто, вариациями от пиано к форте и наоборот. Это исполнение очень напоминало исполнение в костёле под орган, что и являлось привлекательным для молящихся слушателей.
Мне пришлось управлять этим хором непродолжительное время. Здесь я, как регент, был в совершенно других условиях, чем в монастырском хоре: коллектив хористов был уже опытным, его репертуар определившимся, и мне приходилось только накладывать свои «краски» на исполнение. Придать исполнению индивидуальную окраску, отразить личный интерес и вкус на исполнении – всегда привлекало меня, и я испытывал удовлетворение своей работой только в том случае, когда мне удавалось добиться этого. Должен покаяться в том, что меня увлекала именно власть над другими людьми, стремление подчинить их своей идее, и в этом я видел преимущество руководителя хора как художника перед другими, например, перед скульптором, который имел дело с глиной или камнем. Но зато это была более трудная работа. Помнится, в хоре у меня была певица Аня Коханович, обладательница прекрасного контральто. Девушка со счастливой наружностью, избалованная вниманием поклонников, она и в хоре хотела, чтобы к ней было какое-то особое отношение, и вот что из этого получалось. Она должна выступить в «соло», но не даёт того звучания, какое требуется. Предлагаешь повторить – начинает бурчать, ворчать, но не даёт требуемого звучания. Требуешь повторить, ответ – «не буду». «Нет, будешь» – требую. «Нет!» – «Не, тогда я оставляю хор и ухожу!» Все начинают убеждать капризницу. Поёт… «Повторите!» Повторила. «Вот так и пойте!» – «Простите: теперь я поняла, чего Вы от меня хотели!». Да, поняла, но, сколько вымотала нервов. Это, однако, редкий случай, а обычно: согласие и дружба. Никогда и нигде в жизни я не испытывал такой атмосферы дружбы, какая была у меня с хористами. У меня были друзья из мужчин: Шахлевич, Зданко, Захаров – басы; тенора: Шейко, Турчинский; сопрано: Маланя Ковальская, Соня Хаустович; контральто: сёстры Аня и Маруся Коханович. Я много думал над проблемой отношений полов, чему в жизни всегда представлялось много мрачных случаев, и мне всегда вспоминалась атмосфера отношений, какая была в хоре: здесь всё было определено законами музыки и подчинено им, но увы! И сюда прокрадывались иногда «страсти-мордасти», как исключение, как отступление от нормы, но было. Как руководитель коллектива, где были представители из «горючего материала», я понимал, что объективность отношений ко всем – закон, который нельзя нарушать, а то пойдёт ревность, это жестокое женское жало, и всё пойдёт прахом, и вот извольте… Здесь я вынужден опять прибегнуть к дневнику Иосифа Флоровича Диомидова [17. Поля Криводубская из монастырского хора однажды заявила мне претензию: «Вы ко всем нам (читай – хористам) относитесь одинаково», и дальше пошла речь о том, чтобы я отметил её своим особым вниманием… «Поухаживайте за мной!» Боже мой! Святая простота! Но не столь святая. Намёки на некоторые особенности своего организма… Советы врачей… Поля, Поля!… Сделал вид, что всё пропустил мимо ушей, но на душе что-то осталось мутное, серое, чего не хотелось бы иметь в общем тоне дружественных отношений в хоре. Когда уезжали, она была в числе двух человек, провожавших нас. Что же это было?
Приходилось стороной слышать кое-что зазорное о других из певичек, которые по профессии были чаще всего швеями, что некоторые из них выступали и в роли «товара». Однако, я не могу не отдать им дань уважения за их действительно бескорыстное увлечение пением. Никто не оплачивал им этот труд, но они отдавались этому делу самоотверженно, увлечённо, не взирая ни на какие затруднения. Часто в непогоду они являлись на хоры с аккуратностью, которой многим недостаёт даже по служебному долгу [18].
Слуцк, в мирное время тихий уездный городок, в военное время бурлил, и на нём отражались все перемены, которые совершались во всей стране. В частности, на его облик, как и на всю страну, наложила яркий отпечаток Октябрьская революция: забила общественная жизнь, поднялось национальное самосознание масс. Громче заговорила национальная поэзия, шире понеслись народные песни. Самой популярной в это время была песня, которой придавали значение национального гимна.
«Ад веку мы спали и нас разбудили,
Сказали, что треба робить.
Что треба свабоды, зямли человеку
Что треба злодеев побить.
Мы долгло тярпели, тярпеть больш не будем
И пойдем мы долю шукать».
В этой песне сконцентрировался весь гнев народа, который веками скоплялся в народе против его угнетателей.
Пелись песни:
«Гарни, гарни бульбу с ноги,
Торбочку мне дай за плечи,
А из торбочки в куточек
Подай бульба голосочек…
…
Чамуж мне не петь,
Чамуж не гудеть,
Коли в моей хатнице
Парадок идеть.
Пасючек под лавцей
Бульбочку грызець».
Эта протяжная песня менялась бравурной про Янку:
«Янко стоит на горе,
А я у дороги…»
Белорусские песни обычно соединялись в репертуаре с украинскими, как две сестры с разными темпераментами, но близкие друг к другу, пользующиеся одинаковой любовью и вниманием к ним.
Руководителем хора был некто Плышевский, а выступления хора чаще всего производились в городском скверике, где была устроена площадка-ротонда для выступлений. Здесь часто проходили митинги, а они сопровождались выступлениями хора и гуляниями. Хор был любимцем жителей и баловнем. Казалось, прежде скованная народная стихия вырвалась на свободу и торжествовала свою победу.
Эти выступления хора были для меня настоящими «университетами» музыкальной культуры белорусов, впечатлительными и увлекательными.
Но город переходил из рук в руки: его оккупировали то немцы, то поляки, и белорусские песни то затихали, то возникали с новой силой [19].
Во время первой оккупации поляками города ежедневно вечерами на центральной площади устраивались сборы польских солдат нечто вроде вечерних молитв, организуемых ксёнздами, после чего раздавались польские песни: «Еще Polska не сгинела» и «Наши флаги бялы и червлены – пшилено наша польска края». Это было единственным случаем моего знакомства с польскими песнями.
В перерывы между оккупациями города его навещали гастролёры. Так, во время наступления на Варшаву в 1920 году Слуцк посетила бригада артистов, курсирующих в военном вагоне. Среди них я встретил пермяков – земляков артиста оперы Демерта и артистку драмы Прозоровскую. Они давали концерт в клубе, принадлежащем частному лицу – гр. Ивановой.
Программа была следующая:
1. «Ночь любви» – музыкальная картинка в одном действии;
2. Соло – ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»;
3. Ария Онегина – оттуда же.
4. Ария Лизы из оперы «Пиковая дама».
5. «Октябрь» из «Времён года» Чайковского, соло на скрипке;
6. «Умирающий лебедь» мелодекламация под музыку Сен-Санса.
Я имел встречу с земляками и поделился воспоминаниями о пермской опере.
Выступление этой бригады было наиболее выдающимся событием в музыкальной жизни города.
За время нашего проживания в Слуцке город этот навещали ещё гастролёры:
а) оперные артисты, ставили отрывки из оперы «Евгений Онегин» в летнем театре Соловейчика (бревенчатый сарай);
б) два деятеля Минской консерватории: пианист исполнял произведения Листа и тенор – «Жаворонка» Глинки и Песню Алёши Поповича «Расцветали в поле цветики». Выступали в здании женской гимназии;
в) хор Терравского из Минска исполнял народные песни в клубе Ивановой и выступал в церкви.
20 июля 1923 г. мы покидали Слуцк, направляясь на Урал после почти семилетнего пребывания в Белоруссии. За эти годы мы разделяли с народом этой страны и горе, и радости военных лет.
Мы увозили с собой хорошую память о гостеприимном народе, талантливом и сердечном. Я увозил с собой добрую память о годах, насыщенных пением и музыкой, о годах в этом отношении лучших в моей жизни. Я увозил любовь к Белоруссии, любовь ко многим моим друзьям в этом отношении.
На заставке - Игнатьев В.А. За чтением мемуаров «Наши предки». Сентябрь 1963 г. ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 946.
В начало
Публикация первая:
[Назначение в Слуцкое духовное училище]
[Местечко] Паричи
Организация занятий [трёх духовных училищ]
Публикация вторая:
Публикация третья:
Слуцк во время империалистической войны (август 1916 г. – октябрь 1917 г.)
Гримасы этого периода жизни в Слуцке
«Игорный дом» Петкевичей
«Счастливый» брак Слуцкой красавицы Рахили Гецовой
Преступление земского начальника Катранова, или проделки «пиковой дамы»
«Хождение по мукам» [Жизнь в доме еврейской семьи Эпштейн]
Слуцкая женская гимназия
Публикация четвёртая:
[1917 г.]
[Немецкая оккупация]
[Жизнь в доме белорусской семьи Терравских]
[Слуцкое] коммерческое училище
Публикация пятая:
[Установление советской власти]
Семья Александра Васильевича Хвалебнова, б[ывшего] смотрителя Слуцкого дух[овного] училища
[Польская оккупация]
Жизнь в Слуцке при советской власти
Публикация шестая:
Выступления на вечерах, в частности в женской гимназии
КАК СОЗДАВАЛАСЬ «ОЧАРОВАННАЯ» ДУША
Кружок любителей музыки в Слуцке
Я регент и солист Слуцких хоров
1. Автор имеет в виду Новицкого Ивана Александровича.
2. В «Воспоминаниях «Как создавалась «очарованная душа», об увлечении пением и хоровыми кружками» в «пермской коллекции» воспоминаний автора: «Заветная нотная тетрадь, как бы отдыхавшая со времён академии, снова не сходила с рояля. Пелось вволю, и было нечто вроде удовлетворения своим пением: по крайней мере, тот голос, что обычно шептал: «не так, не так надо петь» - до некоторой степени приумолк» // ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 714. Л. 29.
3. Автор использует своеобразный литературный трюк с привлечением воображаемого дневника, приписываемого им реальному лицу – надзирателю Слуцкого духовного училища Иосифу Флоровича Диомидову, с искажением фамилии последнего. В «Воспоминаниях «Как создавалась «очарованная душа», об увлечении пением и хоровыми кружками» в «пермской коллекции» воспоминаний автора эпизод знакомства с Юлией Сервачинской короткий.
4. Известный студенческий гимн.
5. Балакирев Милий Алексеевич (1837-1910) – русский композитор, пианист, дирижёр, педагог.
6. В «Воспоминаниях «Как создавалась «очарованная душа», об увлечении пением и хоровыми кружками» в «пермской коллекции» воспоминаний автора эпизод знакомства с Таней Щукой короткий.
7. В «Воспоминаниях «Как создавалась «очарованная душа», об увлечении пением и хоровыми кружками» в «пермской коллекции» воспоминаний автор ещё упоминает романсы Гурилёва и Варламова.
8. Там же: «Пелось лучше всего: сам себя слушаю, сам себя критикую, стараюсь петь лучше» // ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 714. Л. 34.
9. В «Воспоминаниях «Как создавалась «очарованная душа», об увлечении пением и хоровыми кружками» в «пермской коллекции» воспоминаний автора: «Первоначально это, точнее говоря, был только триумвират меломанов-дилетантов, составившийся в условиях совместной работы и обусловленный этими именно условиями. Старшим из трёх его участников и по служебной субординации и по возрасту был Александр Васильевич, а именно: он был смотрителем училища, где работали трое, а возраст его был где-то около или за пятьдесят лет, а у одного из них в пределе сорока лет и третьего около тридцати лет. Впрочем, когда речь идёт о людях, увлечённых музыкой и пением, то возраст их меньше всего играет роль в их взаимоотношениях, где-где, а в этом случае именно подтверждается открытый А. С. Пушкиным закон – «Любви все возрасты покорны» - любви к одному и тому же искусству, а всякое сознание субординации – подчинённости быстро сменяется установлением товарищеской интимности: таков психологический закон, установленный для лиц такой категории. Таланты трёх участников «кружка» распределялись так: двое – Александр Васильевич и автор сего – певцы: первый – тенор, близкий к баритону, как принято было называть – второй тенор; второй – высокий тенор; третий – Михаил Михайлович Лебедев – аккомпаниатор. Такое сочетание голосовых данных у двух певцов позволяло исполнять дуэты, например, «Моряки» Вильбоа…» // ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 714. Л. 30 об.-31 об.
10. Там же автор указывает, что этот дуэт был «коронной» вещью, в репертуаре «кружковцев», по крайней мере, всякий раз, как они были среди «поклонников» их искусства, последние неизменно просили спеть именно этот дуэт» // ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 714. Л. 31 об.
11. Штейнберг Михаил Карлович (1867-?) – российский композитор-любитель, поэт и аранжировщик, автор музыки и стихов более трёх сотен популярных песен и «цыганских» романсов начала XX века.
12. Глиэр Рейнгольд Морицевич (1874-1956) – советский, украинский и российский композитор, дирижёр, педагог, музыкальный и общественный деятель.
13. В «Воспоминаниях «Как создавалась «очарованная душа», об увлечении пением и хоровыми кружками» в «пермской коллекции» воспоминаний автор называет этот романс: «Я видел сон вчера…» // ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 714. Л. 32 об.
14. Автор имеет в виду Д. А. Агренёва-Славянского и его дочь Маргариту Дмитриевну.
15. В «Воспоминаниях «Как создавалась «очарованная душа», об увлечении пением и хоровыми кружками «в «пермской коллекции» воспоминаний автора: «Четвёртым в «кружок» вступил юноша лет двадцати двух-трёх – Игнатий Игнатьевич Криводубский, природный белорус в отличие [от] трёх великорусов, родиной из одной близлежащих к Слуцку деревень. Он был обладатель лирического тенора большого диапазона, голоса свежего, молодого, со всеми преимуществами, присущими молодому возрасту. Как получилось, что сей юноша оказался среди кружковцев – тут, очевидно, сказалось действие известного закона общественной жизни, выраженного в пословице: «Рыбак рыбака видит издалека», но получилось так, что однажды в компании трёх оказался и он – высокий, сухощавый, с тонкими чертами лица, типичными для белоруса. Он положил на пюпитр рояля ноты – «Тишина», муз[ыка] Кашеварова, аккомпаниатор взял аккорды, и он запел. Присутствующие (это были гости А. В.) были поражены. Посыпались вопросы к певцу: как, что, откуда он такой явился! И он поведал: в детском возрасте он был принят в «хор Славянского», которым уже руководила дочь последнего; со временем он «вырос» из детского возраста и… вот предстал в «сущем виде»: волею Божиею – лирический тенор исключительной красоты. В юности зародилась в голове мысль – учиться больше пению в «Консиватории»; он даже пришел к мысли, что ему для развития голоса нужны «окулисы» (вокализы). «O, sancta simplicitas!» («святая простота!»). Что с ним было дальше? Поступил ли он в «Консиваторию»? Не известно, но больше встречать его фамилию в жизненных анналах не приходилось, может быть, и он явился жертвой тех, кто устанавливал «новый порядок в Европе»?» // ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 714. Л. 31 об.-32 об.
16. В «Воспоминаниях «Как создавалась «очарованная душа», об увлечении пением и хоровыми кружками «в «пермской коллекции» воспоминаний автора: «Но что было главным? Главным было то, что собралась кучка любителей музыки и пения, она «отводила душу» в музыкальных «экзерцицах», она «жила» в музыке…. Вот это и есть главное. События проходили так, что кружковцы то теряли место для своих собраний, то инструмент, то, наконец, события разъединяли их, но когда создавалась благоприятная обстановка, они снова собирались у рояля и «музицировали». Только 23-го июля 1923 г. автор сего навсегда выбыл из «кружка» с переездом на родину – на Урал, и провожал его Александр Васильевич. Было грустно, потому что было ясно, что это расставание будет уже навсегда. «Sic transit gloria mundi!» («Так проходит слава мира!»)» // ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 714. Л. 32 об.-33.
17. Здесь автор во второй раз использует литературный трюк с привлечением воображаемого дневника реального человека, не имеющего отношения в описываемым воспоминаниям.
18. В «Воспоминаниях «Как создавалась «очарованная душа», об увлечении пением и хоровыми кружками» в «пермской коллекции» воспоминаний автора: «Белорусы были любителями церковного пения. В хоре они пели только из любви, «за здорово живёшь», как в шутку сами же говорили себе» // ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 714. Л. 34.
19. В «Воспоминаниях «Как создавалась «очарованная душа», об увлечении пением и хоровыми кружками» в «пермской коллекции» воспоминаний автор называет себя одним из участников белорусского хора: «Слуцкий белорусский хор уговорил принять участие в концерте. Пел народные песни в сопровождении хора… в гриме: «То не белая берёза к земле клонится» и др. Было, было!» // ГАПК. Ф. р-973. Оп. 1. Д. 714. Л. 33 об.
ГАСО. Ф. р-2757. Оп. 1. Д. 412. Л. 1–93.
